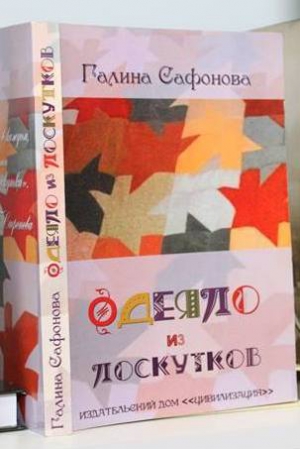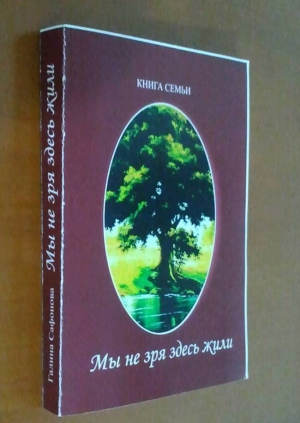Владимир
свободный художник
речка Лалетина
Река Лалетина протекает в районе красноярских «Столбов», где проходит самый популярный маршрут заповедника. В статье далее Вы узнаете, как название реки связано с историей основания Красноярска и познакомитесь с эко-тропой. Предлагаем всем посетить это удивительное место!
река Базаиха
Не каждый крупный город России может похвастаться красивой долиной горной реки. Базаиха, пожалуй, одна из самых красивых и интересных рек, протекающих в Красноярске и его окрестностях. Всем гостям и жителям нашего города рекомендуем с ней познакомиться.
Удивительная и немного печальная история перевоза через Енисей у Красноярска
Енисей...
Широкая, мощная река с крутыми, лесистыми берегами. На одном берегу — молодой город Красноярск, основанный в 1628 году в месте «угожем» воеводой Андреем Дубенским. На другом — богатые рыбой, зверем угодья, дорога на Восток в богатый Китай, Индию.
Как же преодолевали эту преграду купеческие караваны, арестантские партии, воинские подразделения, почта, да и все те, кого звали и ждали далее, за рекой Енисей?
Вот краткая история перевоза через реку Енисей, которую я предлагаю для тех, кого интересует история нашего города, и всего того, что с ним связано.
Музей геологии Центральной Сибири Красноярск GEO
Музей геологии Центральной Сибири приглашает всех красноярцев и гостей города в гости. Здесь Вы увидите интереснейшую коллекцию минералов и метеоритов, отпечатки растений и многое другое. Это не просто место, где знакомишься с экспозицией, здесь реализуются занимательные проекты, кипит жизнь, сюда хочется приходить снова и снова.
Какие это проекты? В чем уникальность этого музея? Читайте в подробной статье далее.
главы из книги "Жизнь главного проспекта Красноярска"
На этой странице опубликованы несколько глав из замечательной книги Инны Ансимовой "Жизнь главного проспекта Красноярска", впервые выпущенной в свет в 2011 году красноярским издательством ПИК "Офсет". На сегодняшний день эта работа выдержала два издания, и все тиражы книги раскуплены.
Если вы хотите приобрести книгу в электронном виде на любом удобном насителе, обращайтесь к автору: 89135511881, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Часть первая книги "Жизнь главного проспекта Красноярска";
часть вторая книги "Жизнь главного проспекта Красноярска";
часть третья книги "Жизнь главного проспекта Красноярска";
часть четвертая книги "Жизнь главного проспекта Красноярска".
Из книги Лоскутки (из крестьянского детства)
Лоскутки
(из крестьянского детства)
***
Песня «Вот кто-то с горочки спустился» слышалась раньше, чем показывались
подводы с косарями. Завидев их, мы неслись с подвизгом на встречу, оживлённо толкаясь и смеясь. Каждый бежал к своему приближающемуся счастью.
***
Отчего ягода на снегу такая завораживающая? Отчего снег на ягодах такой белый? Грозди калины и рябины выглядывают из-под снежных беретиков и скромно краснеют, а шиповник скромности не знает, развесил красные висюльки плодов, разбросал по снегу. Они - пугающе кровавые, но сладкие до сих пор.
***
Она носила кирзовые сапоги, галифе и фартук. Чтобы достать «Беломор-канал», затыкала фартук за пояс и засовывала руку в карман. От неё всегда пахло неухоженным мужиком. Не знаю, может, наша экзотическая соседка была на войне, только вряд ли – сибиряки трудились в тылу. Доброй слыла, трудолюбивой была, но пила – единственная на всю деревню.
Правильно мелькнуло у вас в голове. Правильно и страшно от правды идущего сегодня.
***
Дождь отлупил крышу по полной программе, как ей полагается. Потом смилостивился – стих и начал слегка барабанить. Нет ничего музыкальнее этой дроби! Я распахнула створки окна, и влажная свежесть весны, смешанная с черёмуховым ароматом, одурманила меня навсегда.
***
Земляничная поляна пригрелась на солнышке прямо-таки за нашими огородами. Травой зарасти ей было не суждено, постоянно кто-то топал по её листочкам, но она не обижалась – терпела. Понятливая была: «Отцвету, закраснеют ягодки, и начнут люди поклоны отбивать, улыбки дарить, головой покачивать от удовольствия.
***
Ромашковый Татьянин двор живёт в моём подсознании 50 лет. И надо же какое чудо! Он всё такой же бархатный и зелёный.. Карликовые ромашечки так же свежи и запашисты, даже сгоревшие ворота стоят на том же месте и охраняют тишину двора. Только горестное лицо хозяйки слиняло от времени – вроде есть, а вроде и нет.
***
На краю улицы нашей жили тихие мамаши. Посерьёзу говорю. Никто никого не лупил. Поэтому, когда шла на хохляцкий край, и там раздавались крики то одного, то другого провинившегося дитя, у меня от этих лупок кожа дыбилась, и я умудрённо думала: не повезло им, когда мамок раздавали.
***
Высовываю нос из тепла одеяла в тепло от потрескивающей смолистыми дровами русской печки. Лиственными топит мама - по трескотне понимаю и по запаху, от них спод быстро нагревается. И я, пригревшись, закрыла глаза и отправилась сон детства догонять. Щекотка в носу разбудила вдругорядь – испечённый хлеб корочкой манит. Мамина рука всегда знает, что надо делать - жую хрустящую горбушку и беззаботно улыбаюсь своему трудовому детству.
***
Костёр в пионерском лагере горит весело, с настроением, игриво пуляет в разные стороны искры, таращась, освещает темноту, вырывая у ночи пространство. Одним словом, обустраивает уют, усиливает настроение бегающей, прыгающей мелюзге. Не забывает и о старших, сидящих поодаль в задумчивости или зачарованности, возраст у них такой. Так костёр в их сторону тепло подгоняет: иди, мол, не видишь, что ли, не обогретые.
***
Молочный подойник в чести живёт! Ничто так чисто и своевременно не надраивали хозяйки, как его. Он, на первый взгляд, бездельником болтается на плетне целый день, а ему голову марлечкой обвязывают, рушничком укрывают, носят торжественно, боясь расплескать.
Звон первой струи молока о пустое дно испугал меня: не слишком ли сильно я потянула сосок? Тяганула ещё раз, потом ещё, быстрее, быстрее, и молоко запенилось, заглушив звон струи, указывая на руки юной мастерицы. Материнскую похвалу со звоном первой струи годы не глушат.
***
Пол в нашем доме никогда не был холодным, даже в самую бесноватую зиму. Угол в горнице шибко чем-то был обиженный, промерзал, а пол всегда в уюте. Насытился теплом людских рук: дедушка плахи заготовлял; папа эти плахи обстругивал, укладывал; мама дресвичкой шоркала до желточка; а бабушка устилала своими домотканными половиками, сшитыми дорожка к дорожке. И всё это, « чтобы дитёнку было тёпленько». Ползающие коленочки и ладошки долго память не держат. Ступни же ног сберегли шершавое тепло пола, а сердце – согласие, которое было в доме.
***
Утро. Раннее пробуждение. Сумрак только что сменил мрак. Глаза ещё в сонных ресницах. «В это время твой ангел открывает двери в дом и приходит помочь тебе проснуться», - так бабушка вела меня к ощущению Господа и защищённости.
Её внучка, уже бабушка, и помогает обрести Бога своим внучатам. Можно разрушить церкви, казнить священников, оболгать Святых, но нельзя разрушить Храм в душе, выстроенный и подаренный тебе самым родным и близким человеком.
***
Подружка жила на квартире у своей родной сестры, замужней и детной. Избёнка в одну комнатку, тесновато было. Я квартировала ближе к центру деревни, они – на Кукуе, на который бегала перед каждым уроком математики. Совестливая была, без домашнего задания нельзя завтра в школу прийти, а списать можно. Но сказ не о моих двоечных математических познаниях, а о памяти детства: горячая картошка из чугунка, да со стаканом молока, да в щедром тепле – не забываемо!
Ничего не стоят дома сестёр, позже построенные рядом и по современному образцу с верандами.
Многокомнатная пустота тосковала при их жизни и тоскливо провожала в последний путь. Она знала, что скоро крапива затянет ягодные палисадники и будет стучать в пустоту окон.
***
Медовые свечи силу имеют. Вафельные тоненькие пластиночки из воска, вставленные в рамку, ничего не значат, кроме как белый воск. Поработают над ним пчёлы: ячеечки понастроят, мёдом заполнят, да ещё и упакуют – вот тебе и сила, и энергия, как из выкачанного мёда, так и воска из этих рамочек. Много колобочков лежало на божничке – часа дожидались, когда катать свечи.
***
В сугробы Сибири когда-то дома прятались. Что там сейчас, не знаю, но говорят, что теперь сугробы за домами прячутся. По тем, бывшим, любила детвора в наст бегать. Весной, ранним утром, пока солнышко не разжмурилось, выходишь в валеночках, за зиму настолько подтоптанных, что подошва мягкая становится. Ступаешь, как ласкаешь его, а без этого не получится – ухнешь в сугроб с головой. Идёшь и ощущаешь себя идущей по волнам. Под тобой ведь только тоненькая корочка, а внутри рыхлый снег. Рыхлых жизненных ситуаций было предостаточно, но я знала, что по весне наст крепкий.
***
Дико боялась крыс и мышей. Только последних, в раздавленном виде, на дороге почему-то было жалко.
***
«Дурная овца»,- говорят, ругаясь друг на друга, люди. Любая дурная бывает умной, когда котится и облизывает своих ненаглядных каракульчат, радуется до улыбки, что их не вытащили из живота на шапку.
***
- Почему у нас на дворе не растёт трава?
- Наш двор рабочий труженик.
С тех пор не о траве думала, а наблюдала за двором, как он трудится. Работёнка, я вам скажу, тяжёлая: утром скот пропустит; папин трактор «выгонит» - поспал, мол, иди, работай; курчатам зёрна из прицепа натрушенные подсунет, почёсывают земельный покров своими коготками целый день; только гуси бережность знают – перепончатые лапы мягко ставя, величественно освобождают двор и удаляются на речку.
***
Отцепив от себя колхозное рабство, папа уехал на север. Мама стала ещё большей рабой и часто плакала от бессилия: «Бедная моя головушка». И я стала ощущать свою головушку бедной, и на меня тяжесть навалилась.
Путёвка в жизнь получена оттуда.
***
В деревенском детстве не могла слышать маты, хотела правильно говорить, с завистью смотрела на одежду приезжающих в отпуск «городских», книжки умные «рвала» туда-сюда, листая и читая, пыталась подняться куда-то.
Позже поняла, кого догоняла и куда поднималась.
Побудительный мотив всей моей жизни – интеллект и интеллигенция. Она, придавленная возвеличиванием рабоче-крестьянской политики, имела «честь и совесть нашей эпохи», а не партия; в ней было заложено достоинство нации, ею не прекращалась подпольная борьба за свой народ.
В чём и в ком всё это сегодня, в 2009 году?
Мёртвая интеллигенция, не только бороться, даже не умеет стремиться к справедливости, хотя её не давит рабоче-крестьянская политика, её нет больше. Рабочие и крестьяне загублены, интеллигенция-моль и та мертва…
Беляки, - ой, так грубо оговорилась,- силовики, здрасьте! Вы кругом с кулаком и у власти!
Жутко и страшно жить в таком государстве…
***
С тех пор, как только я перестала падать и уверенно топать ножками, меня нарекли «хозяйкой дома». Бабушкины глаза ходили за мной и управляли тайно моими путями-дорогами (её ноги не ходили).
Первое, что сохранила память: никого нет, кроме нас с ней, и мне надо её накормить и сама хочу есть. Почему-то вдруг плакать захотела сильнее, чем есть. Ещё бы! До шестка доставала только моя макушка, а еда там, за ним, за заслонкой в печке.
Открываются двери хаты, и заходит тётя Нюра со словами: «Накорми меня, хозяюшка», - а сама уже оба чугунка ухватом ухватила и из обоих настоявшийся вкусный аромат выпустила. Радость во мне запорхала крылышками.
Потом макушка вытянулась вверх, и тетя не стала заходить. Мы с бабушкой были один на один с чугунками и крынками.
Своими организаторскими способностями я обязана маме: не командовала, не поучала, не унижала. Сделаю - хорошо, не сделаю - тоже хорошо, потому что моё «не сделаю» было редким и уважительную причину имело. Не было бездумного подчинения и вымогательского исполнения.
Велика честь таким матерям!
***
- У меня глазки морщатся, а дождинками не проливаются, - из разговора малого со старым.
- Глаза не морщатся, но проливаются. Члены тела становятся нервозными, а я - стервозная, - из разговора старости со старостью.
***
Стоя в солнечное утро на балконе, глядя на Средиземное море во всём его величии и на вечнозелёную аллею неописуемой красоты, радующуюся прошедшему только что зимнему, коротко играющему дождику, вдруг, откуда не возьмись, я почувствовала запах дёгтя. Силой, видать, больно поднапряглась, делая расслабление по Норбекову, и «укатила» она меня на колёсах памяти в уж очень далёкое детство: и по годам, и по расстоянию.
А дёготь был, и гнали его свои же, деревенские, в лесу, красоты неописуемой, за речкой, тихой и неглубокой, самой, что надо для детей и для спокойствия их родителей. Любил дёгтем наваксать сапоги соседский парень, да так, что от него и, стоящих рядом с ним, разлеталась вся кровососущая живность. «У меня задумка имеитца: ввесть их в состояние исхудания. Они подохнут, а мине премию пообешшали, если освобожу Сибирь от засильников!»
Поеду-ка я домой и не сапоги, а всю себя измажу дёгтем, может, от ходячей живности родину избавлю. Опять же, дёгтя где возьму? Не гонють боле.
***
Улыбающаяся старость. Чему они улыбались? Избёнка – вне деревни. Стены трухой взялись. Порожек ноги сточили. Внутри, кроме двух старичков: брата и сестры, ничего не было. Чистенькое оконце освещало белые стены и иконку, такую же маленькую, как хозяева. Если бы я их спросила: почему пусто так? Они бы ответили: радости жисти простор нужён.
По просторам мира вожу их просторную радость с собой, чтобы не было оправдания для неудовлетворённости и грусти.
***
Нас с ней объединяли годы, деревня и школа. Во всём этом мы соответствовали друг другу. И не больше. Мне хотелось слиться с ней, как с той, с которой ничто не объединяло, а мы были одной душой. Что же происходит? Ни детство, ни юность ответа не дали. Соскучившись друг по другу за не одно десятилетие разлуки, мы кинулись друг к другу, как родные: рассказывали, сплетничали, помогали жить…
Преданно любили, но так и были разными. Зрелость ответа не дала. Не даст и старость.
Видимо, такие варианты дружбы предусмотрены Всевышним для проверки на человечность.
Легко любиться с тем, с кем растворён друг в друге по природе своей, а на дружбу другого плана работа души требуется.
***
Дямьян – мужик шибко пригожий и начальник. С жаной деток нарожали - двое девочек. Меньшая такая пухленькая, улыбчистая, а старшенькая сурьёзная, вся в матку.
Фатера своя, большая, у всех есть угол, и матке Нюшка угол дала, уважила. У ней боля никого не было, окромя Нюшеньки- то, за детками приглядала, серёд молодых жила, а свою хату закрыла, она у ней где-то у другом месте была.
Живут, горя не знают, тока яго намоленное место – Клашка с заимки.
Ох, уж эта Клашка! В детстве для нас она была пугалом безнравственности, а ей хоть бы хны. Живучая.
***
Зелень молодых всходов весной и желтизна выспевших полей осенью плещутся в моей памяти, как на ветру. По холмам, по косогорам, в низине, за могучими лиственницами и между берёзовых просек – кругом услада для глаз. Весной - радостный гомон оживших полей, осенью – торопливый бег.
И по дорогам, поднимая пыль, несутся машины, гружёные зерном.
А в частном хозяйстве происходит урезание. Огороды из 30 соток превращают в 15-ть. Землицы мало в Сибири? Нет. Так кому это выгодно, чтобы зады бурьяном зарастали?
Начало конца. Без денег, без документов, без земли скорее подохнут. Но оказались живучими. Долго вымирали, пока не только зады, но и «переды» затянулись травой.
***
Опустел родительский дом. Осиротел отец. Остался один, зацелованный старостью: плохо слышал, плохо видел, плохо передвигался. Соседская детвора бегала к нему.
- Вы деда не утомляйте, носитесь шнурками туда-сюда.
- С нас «пользительность имеется», так дед говорит.
- За конфетками бегаете.
- Неправда. Ты бы послушала его, как он рассказывает!
- Он всегда был нашим радивом.
- А потом же он сказал, что помрёт тогда, когда тропинка к его дому зарастёт, вот мы и вытаптываем её, чтобы не помер.
- Вытаптывайте, только не докучайте шибко – старенький. И отнеси вот ему шанежек мягоньких. Неа, утром ему Котька таких же принёс, ты дай ему жиденького похлебать.
К 2010 году общежитие русских деревень загубили окончательно.
Cамое большое испытание – жить среди людей, с закопанной совестью.
***
- Я кушаю, поэтому душа пока отдыхает, - так изрекла Настюша из далёкой Японии. Во как восточная мудрость входит. Ступил на порог страны, и уже тебя осеняет «разумное, доброе, вечное», а годков – то всего пятнадцать, и в деревне родимшая и знамшая: нечего душу по пустякам дёргать, Господу житья не давать.
Может, и правда детей к ним отправить, пока тут наши страну грабят, детство сжирают, молодостью закусывают, ненасытные твари.
Галина Сафонова
Отрывок из книги «В новом месте – новые песни»
Отрывок из книги «В новом месте – новые песни»
Этюд
Непогода треплет город. Люди замуровались в домах, как муравьи в муравейниках, Всё, что происходит за бетонными стенами, жалюзи скрыли.
Пальмам на своих слоновых ногах не сбежать, не спрятаться. Лапами веток строптиво размахивают в разные стороны, защищаются, пытаются отмахнуться от безумца ветра и устоять. Одинокий кипарис, затерявшийся в пальмовой аллее,стоит в полном величии. Его ветви не потреплешь за «здорово живёшь». С детства он укладывает их плотно вокруг ствола и тянется ими вверх в вечной молитве к Богу. Он не противится стихии, он её понимает, у каждого явленияприроды – свой час, пройдет и это, поэтому его медленные раскачивания макушкой выглядят поклоном уважения и согласия с несогласием погоды.
Стоящие вокруг деревья волнуются каждой веточкой, каждым листочком, словно переговариваются в спешке. Их состояние напоминает плеск моря перед штормом, ещё тихое, но уже морщит, пока он не взорвёт волны изнутри ине погонит накат за накатом. Беззащитные кусты даже волноваться не успевают.
Ветер свирепо закручивает им головы, треплет, раскручивает в другую сторону. И так снова и снова, есть вероятность свернуть им шеи.
Цветы из последних сил удерживают свои дрожащие бутоны. Самый приметный из них – «Львиный зев», который совсем не львиный, а просто обиженные птенчики с зажмуренными глазками. Трава имеет короткий срок проживания, поэтому покорно стелется перед стихией (пожить хоцца), но её неумолимо лижет ветер, будто решил слизать напрочь. Получается трава, причесанная по движению ветра, а если ветер крутеля выдаёт, то и травяная причёска становится
кудряшками. Воздух плотно утрамбован пылью. Кругом красно-розовый песчаный туман. Город уходит в ночь с надеждой, что утро порадует влажной тишиной рассвета. Будет тихо, светло в природе природы и природе людей без войны.
* * *
Пальмы, стоящие под моим балконом на цветущей аллее, умеют общаться с людьми, ну, со мной это уж аллее, умеют общаться с людьми, ну, со мной это уж точно, иначе, как бы я знала, какое сейчас время года.
Нюхнуть погоду некогда, а в вечном цветении не поймёшь, что там за окном квартиры. Висят кисти цветов на великанах-пальмах – весна пришла, чуть погодя, уже несмелые плоды завязались, ещё чуть и дутыши жёлтого цвета
щемятся на ветке, солнышку бока подставляют. В зависшей тишине осени слышно, как шлёпают под ноги плоды, уже поспели. Когда только успели? Отрожав, красавицы- пальмы приготовились встречать ливневую зиму.
Шумят, шумят кроны, умытые дождём, мне в окошко машут. Красота Господняя!
Дёготь
Стоя в солнечное утро на балконе, глядя на Средиземное море во всём его величии и на вечнозелёную аллею красота-фейерверк, радующуюся прошедшему только что зимнему, коротко играющему дождику, вдруг, откуда ни возьмись, я почувствовала запах дёгтя. Силой, видать, больно поднапряглась, делая расслабление по-Норбекову, и «укатила» она меня на колёсах памяти в очень далёкое детство (и по годам, и по расстоянию).
А дёготь был, и гнали его свои же, деревенские, в лесу красоты неописуемой, за речкой, тихой и неглубокой, самой, что надо для детей и для спокойствия их родителей. Любил дёгтем наваксать сапоги соседский парень, да так, что от него и стоящих рядом с ним разлеталась вся кровососущая живность: комары мошка, овод...
«У меня задумка имеитца: ввесть их в состояние исхудания. Они подохнут, а мине премию пообешшали, ежели освобожу Сибирь от засильников!»,- потешал округу своим пристрастием к дёгтю наваксанный. Поеду-ка я домой и не сапоги, а всю себя измажу дёгтем, может, от ходячей живности сторонку свою избавлю Опять же, дёгтя-то где возьму? Не гонють боле. И я ни кого не гоню, пусть себе живут, всем жить охота».
***
− Давно был дома?
− Что я там забыл (враг).
− Детей - в короб и к нам.
− Что случилось?
−Шанежки испекла. Чайком побалуемся.
− Ёлки-палки! Какая ты молодец (друг)!
− Давно был дома?
− Давно. Безденежье замучило (друг).
− Берёзу увидела и заплакала.
− Нашла, о чём плакать (враг).
* * *
Из своего-чужого окна вижу прибежище бомжа: аллея, скамейка, ворох «добра». А если б у него был дом?
***
Мудрый человек тот, кто, несмотря ни на что, способен переваривать глупость окружающих. Не навьючивает её на себя, чтобы обессиленной лошадью волочь по жизни выбросы человеческого негатива, а взял, переработал и выплюнул.
Уже хорошо
Берестяной туесок, привезённый из Сибири, каждый день беру в руки (в нём чай хранится) и всегда ощущаю шершавость не туеска, а коры берёзы, росшей под окном у дома, теперь она - без дома и без меня, и без ладошек, чтобы пошершавить. Тепло моих рук достаётся долониксу королевскому, он ещё огненным называется, а люди его с гордостью, с любовью называют: дерево-тень. Яркий шатёр из густых цветов яркого красного цвета делает крону непроницаемой. Солнце в разгар июньского разгула горя чих его страстей, как спотыкается и зависает, не смея про пустить ни одного лучика через такую Божью красоту. Под ней всегда гнездятся две три скамеечки, путников поджидают.
Прикасаясь к королевскому стволу, понимаешь, почему он так называется: сила сильная в нём по выживаемости. Стыдно под ним кукситься о своём переселении, Станешь под ним, голову вверх задерёшь и шкодная мысль появляется: а что если на нём шалаш сделать, как на берёзе делали, и улечься, вытянув ноги (места хватит на любую длину и ширину)? Хочется – уже хорошо!
Любить исход и приход
Харитиньюшка! Василисушка! Анастасьюшка!
У детей имена странно звучат для времени и места. Они уже – третье поколение миграции. Ещё хорошо говорят, кое-как пишут и плохо читают.
Следом идущие начнут кое-как говорить, еле-еле писать и никак не читать. Бег новой жизни, нового языка, новой культуры возьмут своё, ассимилируют. Не потерялись бы корни русские. Пользы никому не будет, если непомнящими жить станут.
Прилетела я, залётная, с перелётными птицами на Святой Земле гнездиться. Год пройдёт: хочу домой, точь-в-точь, как птица! Побуду немного и назад вертаюсь в тепло страны.
Задумка имеется – пора детей меньших везти Сибирь показывать, край, в котором птицы своих птенцов выводят и в полёт поднимают. Полюбят исход, будут любить и приход. До Москвы – самолётом, а дальше – несколько суток под перестук колёс поезда, чтобы увидели, почувствовали, поняли.
Пусть устанут в дороге и оценят путь перелётный, тогда в парках Израиля будут с птицами говорить, как я говорю, слать на родину предков приветы без ответа, как я шлю, и называть своих деток Иванами, Степанами…
Простолюдных кровей корни не меньше царских маются, думается, ещё и больше, так как к землице в наклон стояли. Помнит кормилица, кличет – не докличется.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Всем тем, кто защищает, и кто бежит, спасая детей, от «мирных» бомбёжек.
РАЗДЕЛ II
Военные зарисовки с ливанской войны и «Литой свинец»
***
У меня внук – солдат.
У меня в шкафу – автомат,
Настоящий, для убийств и страха,
На ночь спрятался в моих рубахах.
Спит, сопит уставший мой внук,
В покое беспокойных бабушкиных рук.
Не обстрелян – молод, автомат – стар,
Трогаю остывший от стрельбы металл.
− Приходилось быть убийцей? – спрашиваю.
− Жизнь бескровно я донашиваю.
− В кровавый XXI?
− Верно.
− Случайно?
− Обучаю.
− Война в полсотню лет идёт?
− Со мной их юности не будет – влёт.
Мой внук – боевой солдат.
У меня в шкафу – его друг-автомат.
Танк в яблоневом саду
Раннее пробуждение природы. Тишина стоит мёртвая, то ли не проснулась ещё, то ли её уже убили. Маленькими шажками, на цыпочках крадётся утро. Ему боязно вступать в свои права.
«Глаза бы мои не глядели», – огорчённо шепчет, но идёт, понимает – людям ещё страшнее.
Солнце же, на то оно и солнце, подгоняет: «Надо ослепить, ослепить, чтоб не убили день».
Лучи, как прожекторы, поползли и засияли в яблоневом саду. В нём всегда был праздник! Вот они по привычке и лученулись туда, забыв, о чём солнце просило. Теперь бегают, жизнерадостные кретины, бегают, а сада найти не могут. Только подорванный танк, кровь по земле, и яблоки…
***
− Собака, которая гуляет под домом, что бы это значило?
− А то и значило, что наверху война.
Политическая реплика ребёнка войны
− Италия и Турция поддерживают террористов. Это так несправедливо. Мне скоро двенадцать лет исполнится, а тут эта война, умирать надо.
«Не допусти, Господь!» – усиливаю молитву и прошу, прошу, кидаясь душой одновременно во все стороны, где дети живут.
Катюши
Одна «Катюша», которая героиня русской военной песни, «выходила на берег крутой», другая «катюша» неумолимо летит на наши головы, а третья – девочка Катюша со своими братиками и сестричкой сидят в бомбоубежище. Самая молчаливая из них – Василиса, и именно она заговорила первой:
− Кто такой в нашей стране Путин?
Спросила, вероятно, под воздействием телевизора.
− Президент России.
− Так зачем же он продал арабам наши «катюши», которыми они нашу страну убивают?
«У детей обе страны наши: и Россия, и Израиль», – подумала я и с ответом слукавила:
− Не знаю.
− А я знаю, – коварно отозвался всезнайка Никита. – Президенты деньгу зашибают, торгуют ракетами, как жвачками.
− У них денежков больше, а у нас солдатов меньше? – умозаключительно спрашивает повзрослевшее до срока дитя.
Невыносимо слушать, о чём говорят дети целыми днями. Обняла меньшего, а в голове письмо сочиняю:
− Владимир Владимирович! Вы вывозите из Ливана русских матерей с арабскими детьми и кудахчете по всем каналам над черными глазками.
А как быть нам, русским матерям, с нашими голубоглазыми еврейскими Катюшами? Арабские смертники кормят наших людей взрывчаткой, шариковыми пулями, гвоздями. Постоянные теракты уносят сотни жизней. На школьные и детсадиковские дворы летят «касамы». Наши прославленные в Великой Отечественной войне «катюши» так бесславно разрушают наши мирные города. Перепуталось всё наше с вашим, а ваше с нашим. Ясно одно, тот, кто прикрывается мирными жителями Ливана, не только наш враг, он и ваш враг.
Жалостлив русский человек. Это хорошо! Жалейте ливанских детей, мы их тоже жалеем, но и за русских детей Израиля и России убойтесь.
Хочу домой!
Так бывает со всеми, кто, уезжая в город, увозит с собой деревню или в чужеземную страну едет с родиной, как в Тулу с самоваром.
Кровь и грязь
С экрана русскоязычного телевидения комментатор шепелявит о военных сводках. И непросто шепелявит, а машет рукой, как картонной сабелькой: на военных, на правительство, на врага, на друга. А одет-то, а одет – даже из-за экрана духами шибает.
«Неужели кому-то нравится такой пиар в кровавые времена?» – недоумевают многие, глядя на холёную фигуру во весь экран.
В то же время. Звонок в студию:
− Вы такой умный, такой элегантный! Вы умеете так красиво одеваться! – старческий голос взволнованно торопится, хочет, как можно больше сказать комплиментов в отведённое ей время эфира.
Хорошо хозяйке этого «голоса», она уже впала в пору своего детства. Для неё нет войны. А настоящее детство страны переживает самый большой страх, страх смерти.
− Мы прервёмся на небольшую рекламную паузу – объявляет ведущий.
«Презентация моей книги состоится в городах: Тель- Авиве, Хайфе (эпицентре-то войны). Приходите, поговорим, поспорим, – рекламирует тот же голос, того же ведущего, а из этого города, из-под бомб, вывезены все, кого могли вывезти.
− Сегодня погибли резервисты, не успевшие доехать до передовой. Попали в засаду.
Горе. Кровь. Слёзы…
Следом опять реклама для тех, кто погиб; для тех, чьи сыновья погибли; для тех, кто от боли потерял ощущение времени:
«Хумус – сытное лакомство на завтрак, обед, ужин. Покупайте и ешьте на здоровье».
Что тут скажешь. Комментарии излишни. Грязь – она и есть грязь.
Разговор бабушки с внучками
− Василёк, почему у тебя такой печальный голосок?
− Так.
− Так не бывает.
− На войне бывает.
− Ты не думай об этом.
− Я бы не думала, да Настя меня волнует.
− Чем?
− Войной.
День следующий
− Бабуль, что ты делаешь?
− Вам звоню.
− Всем?
− Всем.
− Целый день?
− Целый день.
− По очереди?
− Как придётся.
− Надо попросить папу, чтобы он нас к тебе всех сразу подключил. И ты тогда не будешь войны бояться.
Лучше не надо
Страх дан как сдерживающий механизм. При всём, что вмонтировано в человека (сущность-то сложнейшая (!)), без сдерживающего чувства страха жизнь на земле превратилась бы в хаос. Разве только вместо себя страх мог оставить подружку – опасность, а раз есть так и не иначе, значит, так Создатель распорядился.
Визжат, терзая слух, сирены, летят с чистого неба, как ниоткуда, бомбы на мирные головы, в ответ гудят самолёты. И от «ответного привета» страх загоняет разнузданное зло в их бункеры.
− Можно привыкнуть жить в войне?
− Можно.
− Но лучше не надо.
Мать не бросит
Каждый вспоминал своих далёких и близких людей, чтобы пригласить к себе, чтобы вывезти из-под огня, спасти. Вспомнил и он:
− Боже мой! Там же подруга моей умершей жены. Она единственная осталась. Я должен её забрать, я просто обязан, я не прощу себе…
Поспешно находит в телефонном справочнике номер телефона, записанный рукой жены. Набирает.
− Фаина, я так рад тебя слышать!
− И я рада. Как ты там один с горем справляешься?
− Справляюсь. Я звоню узнать, у тебя в доме бомбоубежище есть?
− Нет.
− А у сына?
− У них в квартире оно.
− Так почему они тебя не забрали?
− У них квартирка маленькая.
− Какая там квартирка, тебе бомбы на голову летят.
Вызови такси, палочку в руки и спускайся. Приедешь ко мне, я тут оплачу дорогу. Только уезжай. Бомбы на головы вам уже которые сутки летят, не переставая.
− Не могу сына бросить.
− Так он же в другом конце города?
Ну и что ж. Мне спокойнее, что он недалеко, рядом.
Вспомните, что говорило, о чём беспокоилось сердце, вырванное сыном из груди матери: «Не ушибся ли ты, сынок?»
«Где ж вы, где ж вы, очи карие»
Крутится эта строчка из песни в моём испуганном мозгу, помощи хочется, помощи. Почему один на один? Почему нет поддержки? И следом накат злобы, перекрываю щей горло. Русскоязычное еврейство Израиля млеет от гордости
за своих русских евреев, особенно за артистов. В летний сезон (в летний и мирный) их тут, пруд пруди: поют, купаются, загорают, а как начинаются бомбёжки, линяют все в свои родины, не увидишь.
Израиль распинают, а они, как не слышат, и про священные могилы своих родственников на Святой Земле на время забывают. И про адвокатов, и про адвокатш. Что-то там в своих мирах «вяжут и распускают», делая вид, что очень занятые или оглохшие.
Идёт эвакуация детей – пригласите по одному ребёнку к себе, встретьте самолёт «Эль Аль» в полном составе, чтобы все увидели, какая армия поддержки есть у Израиля. Боитесь громко? Генный страх мешает? Так я вам предлагаю: возьмите тихо по одному ребёнку, на время. Пусть детки у вас отойдут от бомбоубежищ, перестанут вжимать головки в плечики.
Ан, нет! Выкуси! Своя задница дороже. Храни, Господь, солдат наших израильских, храни, Господь, солдат наших русских в израильской армии. За них нам никогда не стыдно.
На русскоговорящие приблудные гастроли, спектакли больше не хожу – война во всём виновата: на одно закрывает глаза, на другое открывает. Если дела их праведные в этом деле имеются, но сокрыты от глаз моих, тогда извиняйте бабу-дуру.
«Литой свинец»
Город моей любви
В город последнего моего десятилетнего жительства всегда возвращаюсь в приподнятом настроении, потому, что он - город солнца. Без помпезности зодчества, без производственных отходов, не считая единственной чумазой трубы котельной, без элитного снобизма. Море – центр жизни города. Цветущие аллеи – чистый воздух и глаз услада.
Город мой встречал меня своим вечным цветением, морскими нежными шлепками волн о босые ноги, бегающим по аллее восторженным детством, распахнутыми тёплыми объятьями друзей, крикливыми разговорами местных жителей.
Сегодня не бегут по аллее дети, не слышно рвущейся из окон музыки, говорливые, по-восточному, женщины разучились говорить, природа, «причёсанная» вечным цветением, стоит растрёпанной и притихшей. Тревога имеет своё лицо. Сердце сжимается жалостью к городу, как к больному, беспомощному ребёнку или старцу.
На детской площадке обиженно повисли разорванные снарядом качели, обессилено болтаются цепи, предназначенные когда-то своей металлической силой охранять жизнь ребёнка. В затылок городу дышит враг. Полиция, которая в мирные дни воспринимается карательным органом, враз стала другом. Раньше мы как бы защищались от неё, теперь она помогает нам защищаться от врагов. Породнились. Отведи, Господи, чёрную напасть из нашего города и из не нашего тоже.
Вот так
Гражданский самолёт, пролетая над нашим городом, набирает высоту и скорость для дальнего полёта в другие страны.
Дети детского сада, слыша гул, зажимают уши, бегут к воспитательнице и жмутся к её ногам. Она отвлекает, забавляет, а сердце плачет.
В школах в это время… Младшие юркают под парты и закрывают глаза, учительница – с ними вместе, быстро затевает игру. Так, играючи, и выводит их оттуда. Смотрит на них, приветливо улыбаясь, а сердце плачет. Старшие ученики, кажется, не реагируют на звук самолёта, но это внешнее, а внутреннее – в их сгруппировавшихся телах, напряжённых глазах. Учительница на такой случай говорит не об учебном материале, а кидает умную шутку, которую ученики подхватывают и начинают балаганить, она, строжась, успокаивает, а сердце плачет, глядя на учеников – за восемь лет «мирных» бомбёжек они успели вырасти.
***
«Человеческая сущность – душа и тело. Души наполняют небо, тела насыщают землю».
Для человека высший духовный суд на земле, которую насыщаем, должен быть он сам. Муки ада земного устраивает себе он сам. Только другим - зачем же?
Итоги палестинских обстрелов
Утро Йом-Кипура
Такая городская тишина бывает только один раз в году и в одном отдельном государстве – Израиль. Пение птиц - это самое громкое, что можно услышать в такое утро. Машины стоят, как все обезбензинились, редко вышедшие в улицу женщины, как будто всё своё выкричали до этого дня, а идущие в синагоги белоснежно одетые мужчины не шаркают подошвами ног и шнурки не забыли завязать. Тихо. Мы с непоседой-внуком вышли на баскетбольную площадку, рядом на детской – мама с пятью детьми один другого качают, она сидит на парапете, смотрит и тишину утра стережёт.
Мой трёхлетний баскетболист согласен бросать теннисный мяч в баскетбольную корзину для взрослых до тех пор, пока не забросит. Минут пятнадцать не было успеха.
Сопит и бросает, сопит и бросает. Упорство – позавидуешь.
Потом, видать, разогрелся, пошли мячи один за другим. В минуты нашей с ним тихой радости, он наклонился за мячом и говорит, не разгибаясь, как спрашивает, ни к кому не обращаясь: «А если начнётся война?» По окаменевшему моему телу пробежали «мурашки». Три года?!
Бомбёжки слышал в два с половиной?! В доме о войне не говорят! Что это было?
Речь идёт не о нарушенной психике от бомбёжек, не о запрятанном глубоко детском страхе (это всё есть), а о взрослой душе маленького человечка. Он почувствовал скорбную тишину Дня и вспомнил ту тишину, из вымершего днём города войны. И прозвучал этот страшный вопрос.
− Она не начнётся, родной, - ответила я дрожащим голосом. – А если начнётся, мы спрячемся в битахон (бомбоубежище). Солдаты наши выйдут и нас защитят.
Говорю, а он, не отвлекаясь, как и на вопрос не отвлёкся, бросает и бросает мяч в корзину. За час забросил двадцать мячей.
Ему не нужен был мой ответ. Он вёл себя так, как будто сам об этом всё знает.
Не ловите, родители, в силки своих дел, суеты и прочего, приказами и окриками душевные думы ваших детей.
Только Господу постижима их глубина.
Три года?! Ему – всего три года! В это время говорят и думают душой и сердцем, голову приложат, повзрослев.
Кто есть ещё
В воскресный день раннее пробуждение простучал своим клювом молоденький дятел, усевшийся на таком же молоденьком деревце, как сам. Сонное утро нежило засонь, а мы уже катили свой возок к игровой площадке. Качели-карусели тишиной приняли первого посетителя, он ещё был лениво ходяч. Вот и нырнул скорее в зацепоченную качельку, чтоб не выпасть. Дятел на соседнем дереве постучит, посмотрит, постучит, прислушается, оглядится. А вокруг, кроме нас троих –ребёнок, я и дятел – никого. И два обиженных дома, выщербленные снарядом в утро прошлого воскресения. И срезанные взрывом пальмы. И ошкуренный кусок земли, на который так бережно укладывали зелёными лентами траву…
Нет, не трое, есть ещё кто-то…
Ты видишь, Господи
Сумерки медленно густеют, и в этой серой густоте цепочкой движутся солдаты. Мы видим их спины с тяжёлым снаряжением за плечами. Потом появляется какое-то призрачное желтовато-белёсое освещение, и очертания людей превращаются в светящихся светлячков, словно они переступили грань между миром и войной.
У русских, глядя на это передвижение, всплывают слова песни о Великой Отечественной: «Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры… Мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад», и песня эта становится напутственным заклинанием. (Окуджава написал её на все времена и для всех народов).
Матери и отцы окаменели в физической неподвижности у экранов телевизоров. Только сердца стучат, стучат, замирая, а губы шепчут молитвы, направленные к единственному защитнику их детей, к Господу Богу, выискивая всё новые и новые слова обращения.
Через сон раннего утра в прифронтовом городе тяжёлым гулом проплывает военный самолёт, волоча гружёное смертью брюхо на их сторону. Шевелится жалость ко всем сразу: к ним, к нам, и ты лежишь в обнимку с этой жалостью, но недолго…Дальше, ни спать, ни думать о справедливости жизни, нет времени.
Сирена предупреждающей тревоги разрывает покой внезапным выстрелом и воет изматывающе и пронзительно. «Господи! Береги детей!» – успевает мозг из разорвавшегося сна метнуться к Богу. Выбух «катюши», дрожь разорванной в лохмотья земли, момент обвисшей тишины, и несутся сирены скорой помощи и полиции. Опять к тебе, Единый Спаситель: «Помоги пострадавшим!» Рука тянется к телефону.
Новый день, резвый своей ранней молодостью, радостно бегает по аллеям, паркам, пустынным улицам и заманивает: выходите. Смешной, он не знает, что даже через окно нельзя долго на него смотреть, взорвавшийся «град» осыпает смертельным градом металлических нарезок, гвоздей, шариков все близлежащие с эпицентром дома.
Только уходя в вечер, день поймёт весь ужас происходящего – из резвой радости его сделали днём страданий и слёз.
Ночь рвут всё те же сирены, землю шматуют всё те же снаряды, и ты уже в своём спасательном бункере не понимаешь, куда бежать, и, засыпая в этой непонятке, видишь всё ту же войну, только перемешанную с мирной жизнью из прошлого, и ночные бомбёжки воспринимаешь громом небесным.
Мир настанет, вечно войне не бывать. Утешимся и будем терпеливо ждать. И мальчики наши вернутся назад с победой, так как победа там, где есть правда. Ты видишь,
Господи, как устали твои чада от постоянных обстрелов мирных городов, и как я хочу увидеть, обнять своих детей, забункеренных в своём доме соседнего района в такой Светлый День Рождества Христова на Святой Земле.
День Святой Троицы на сибирской земле выпрыгивает сам по себе.
Горит тайга. Мать-волчица уводит своих близнецов от пожара, только куда ни кинется, везде огонь, дым, гарь.
Подпихала их под своё брюхо, прикрыла собой, прислушалась и решительно встала. По её стремительно сгруппировавшемуся телу было видно, что она принимает какое-то решение. Затихнет на секунду, и в этом затишье мотнёт
пару раз головой, как сомневаясь или не соглашаясь в чём-то сама с собой, и опять затихнет. Уши улавливают человеческие крики, а если так, значит, в той стороне есть жизнь.
Последыш, который родился вторым, очень слабенький, ему не хватает силёнок вдохнуть и выдохнуть, а первый из сочувствия лижет лежащего брата, подбадривает тихим скулением. Мать отстраняет его и носом подталкивает к чуть заметной в траве тропинке, словно говорит:
«Уходи!» Сама берёт второго в зубы идёт следом за ним.
Волчата в ползунковом возрасте, ей приходится нести, подталкивать, подрыкивать, лизать, шлёпать, но желаемой цели она достигла – они вырвались из плена огня, но дышать по-прежнему нечем. Кругом машины, вода, мешки песка, сложенные в горы и рвы, широкие и глубокие, бульдозеры постарались. На лицо все меры предосторожности, чтобы не впустить беду в близлежащие деревни. Среди этого всего – суетящиеся люди, которым дела нет до волчицы, перелезающей и преодолевающей преграды со своими щенками.
Благополучно добравшись до реденьких кустов у просёлочной дороги, она упала в изнеможении. Детки прилепились к соскам, жадно потягали полупустые и полезли по матери, цепляясь, падая, игриво кусаясь. Странно было, что она их не шлёпала и не рычала, а ведь за подобные шалости всегда наказывала.
Накувыркавшись на маме, они выкатились на дорогу. Мотоциклист на скорости чуть не вылетел с сиденья, так неожиданно было появление зверьков у его колёс. Удивления «откуда они» не было, потому, что во время бедствия спастись хотят все.
Он поднял одного, погладил, опустил на землю. Взял другого, слабенького почувствовали его руки, даже попытался покачать, как ребёнка. Опустил рядом с первым, по- сокрушался, жалея, присел на корточки и обомлел от смертного испуга – он увидел в кустах оскал зубов волчицы, который красноречиво угрожал человеку: «Не смей!»
Но после этого не последовало стремительного броска, не было и угрожающего рыка.
Тело волчицы напряглось, задрожало, как от лютой ненависти или страха, она задрала морду и так жалобно завыла, как кого-то оплакивала или прощалась с кем-то, потом медленно, по-старушечьи, поднялась, развернулась и, путая ногами, ушла в сторону пожара.
Одеревенелые ноги мотоциклиста ещё какое-то время держали его в той же позе, потом он плюхнулся задом в дорожную пыль и пытался понять произошедшее с ним, но его новые знакомые не дали долго раздумывать: тычутся, покусывают, объясняя, что они хотят есть. Выгоревшая тайга чёрными свечками обуглившихся деревьев траурно молчит. Небо плачет запоздалым дождём и смотрит в остекленевшие глаза навеки успокоившейся волчицы. А её волчата бегают с собаками по деревенской улице. Велико Материнство, велико!
День Святой Троицы на сибирской земле тихо отошёл в ночь.
Утро на Святой Земле не может порадоваться жизни. Военные машины «скорой помощи» везут с поля-боя раненых солдат, в тот самый приёмный покой, где пару дней тому назад, шутя, смеялись мать и дочь над 87,30. Вроде, как всё – не здесь и не с нами…
На такой же машине из Сектора привезли арабку-роженицу, которой уже не важно, на какой земле рожать, главное, чтобы жизнь ребёнка была спасена, чтобы он увидел свет.
Жалят межнациональные конфликты. Мстительность к иноверцам страшна, опасна, потому что разрушает не устои иноверцев, а устои своей собственной веры. Рушатся точки соприкосновения.
В единоличной жизни каждого отдельного человека общество живёт своими подоплёками. Углядеть, куда они тебя подталкивают, очень сложно, особенно, когда разжигают религиозную вражду для достижения политических завоеваний, амбиции пощекотать.
***
На улице пришла весна! Солнечные лучи старательно пробираются в комнаты, вопросительно ищут людей:
− Где вы? Я тут!
− Ты-то тут, Светило Господнее, да мы к тебе выйти не можем.
***
Лицо войны? Утро проснулось. Самолёты улетели. Ракеты не прилетели. На этом фоне мизер проблем становится ещё более мизерным. Война у нас обыденная повседневность – приходит ниоткуда и уходит в никуда, перманентно удалив дома с лица земли, людей из жизни и прочее живое – в покалеченное или неживое.
Из-под бомбёжек
Нельзя заплакать, зареветь, закричать, когда изнутри всё рвётся от физической немоготы, от душевной усталости, оттого, что рядом с тобой находится твой любимый человек, который физически не может убежать от своего и твоего горя. Тебе жалко его, себя и опять его, а внутри – сгусток рыхлого бессилия.
Ночь, на то она – ночь, чтоб изнурять страхами, на пугливых ногах бежать к нему, замерзая, в одной рубахе.
Возвращаюсь в логово ночи, радость оттого, что хоть чуть, но она короче. Ложусь, понимая, не моя это ночь, необычно немая. И не одна она такая ночь, которая прочь, такие все ночи, петля и та короче. Внутри изнурённой горем, надорванной болью ревёт несогласие зверем, в разбитой груди её ищет двери.
Находит. Выходит. Утишилось. Отступило. Ватное тело несмело вступает в жизнь. Так выглядят боли от горя, человека лишавшие воли.
Галина Сафонова
Из книги «Лячок-сибирячок и другие»
Из книги «Лячок-сибирячок и другие»
Влюблённый и гуси-лебеди
Городские наши родственники, когда приезжали летом повидаться, отдохнуть, не успевали порог переступить, как сразу спрашивали: «Ну, что тут нового у Лячка?» И так каждый приезд, пока я не по новостей, как у нас, вот им и интересно по удивляться.
Потом Кирюху своего начинали воспитывать: «Вот тебе в деревне ушито надрали б». У них же в толкучке трудно разглядеть, кто как подличает, кто дурак, а кто умный.
В деревне тяжельше жить не только из-за работы, в деревне, как говорит ма-ма, «планку надо держать пред людями каждый день».
Кирюха зашёл к нам в кладовку, увидел корзины с яйцами, полоумно глядит и кличет свою мать: «Гляди, яйца, яйца, яйца».
От корзины к корзине бегает и яйцает. В ихнем городе тогда и одного яйца не было, а нам куры нанесли столько, что свиней кормили. Почему-то до города ни кто не хотел довезть. Да ладно. Я вам хочу рассказать не про яйца, а о чём-то другом.
В нашей Кизыкчульской школе каждый год менялись учительницы. Кому из городских охота жить у чёрта на куличках? Мы же перед глухоманью самые первые, впереди только горы и тайга. За четы ре начальных класса учёбы я в пятерых училок был влюблён. В четвертом классе была самая-самая! Белая, статная, рукодельная, прям Василиса Премудрая и Прекрасная, всё в одной!
Ксюшку подслеповатую выгнал с первой парты. Сижу и луплюсь на такую городскую красоту. А платья! А одеколон, который духами называется! Даже наш навоз не может эту приятность забить. Как-то раз я не смог решить до-машнюю задачку. Мамка поволокла меня к учительнице домой. Такая в де-ревне заведёнка была, что учителки не отказывали в помощи. Она помогла.
И тут неожиданно так спрашивает:
– Вы не хотите сделать себе покрывало на кровать? И ведёт мамку в горницу хаты, в которой угол снимала.
– Вот такое, – показывает нежной ручкой.
– Красотища-то какая! – всплеснула руками моя наивная мама. Гуси-лебеди по озеру плавают, всё кругом сине-бело-зелёно.
– Я сама их делаю. Дадите плотный материал, и у вас такое будет. Мамка тряпками не увлекалась, а тут радуется: «Учителка мне сделает!»
Она в школе один год училась, поэтому на всех учителей смотрела с почте-нием. «Они эвон выучились?!»
Меня замутузила любовью к ним: не огрызайся, не ощаряйся, учися, слухай-ся. В долгий ящик дело не задвинула, подсуетилась и одолжила пять метров белой бязи у соседки. Сложила в узелок все ватрушки, что утром напекла, крынку варенца прихватила, яиц и потрусила к учительнице. Через неделю гуси-лебеди плавали у нас в горнице.
Только слышу, бабушка Финадора что-то выговаривает:
– Нюрушка, дорого это.
– Она так за работу запросила – две подушки.
– Чтобы набрать столько пуху, нам надо всех гусей порешить. Как ты так договаривалась? Смотри, чтоб дед наш не пронюхал, а то будет нам с тобой. – Я не договаривалась. Она предложила – я согласилась. Про плату и разго-вора не было, думала, по совести. Не ругайся, давай свои отдадим. Огорчение чувствовал в маминых словах, но не понимал ни бельмеса. Переспросить нельзя.
Продолжаю на уроках очарованно рассматривать буфы и букли любимой Элеоноры Эльдорадовны. Тьфу, язык сломишь, пока выговоришь.
Перед Пасхой мама уборку наводила: стирала, мыла, сушила. Решила и по-крывало просушить. Вынесла. А тут первый слепой дождик, да ещё и со снежком! Ему же без разницы, где гуси, где лебеди. И уплыли гуси-лебеди вместе с озером по земле гулять. Вы же знаете, гуси воду любят.
На верёвке осталась висеть грязная заплаканная бязь. Мама тоже кинулась в слёзы, бабушка успокаивает:
– Есть такие люди, доченька. Вот учителка – образованная, а нечестная. Ох, грешно дурить-то. Не расстраивайся, нам ещё Бог даст. Подумаешь, подушки?! Не жалей! Учителку жалеть надо. Ежели не остановицца, то за молодость наростить себе замаранный хвост совести, потом сроду не отмоить.
Тут уж и дурак бы понял. Понял и я. Наляпала гуашевой краски и маме всу-чила. Такие обманки деревенским только цыганки подстраивали, а тут…
В деревне знали, что безобиднее мамки моей нет, вот она её и выбрала, чтоб пуховые подушки подложить себе под ушки.
Хотел бы я, чтобы мамка побежала к училке и за волосы ту оттягала, но она этого не умеет. В один миг возненавидел я свою любовь. И вступился за мамку, как мужик: бросил школу. Не на вожжах же меня волочь? Молчу, соплю и по хозяйству работаю. Мамка просила-просила идтить в школу, а потом и говорит:
– Спасибо, сынок! Ты у меня молоток. Не пропадём, будет следующий год, выучимся. За мамку ж заступиться – святое дело. Хто ж окромя тебя засту-пится, не дедусь же старенький, папка далеко.
У меня на душе полегчало, что она поняла меня. Живём, песни поём. Мамка доит колхозных коров, а мне свободу с хозяйством предоставила.
«Ты, мам, ему не перечь, он у нас самостоятельный», – говорила она бабушке шёпотом.
Дедушка же думал, что у меня каникулы. Я за это время и за такое отношение ко мне подрос и ощущал себя не десятилетним пацаном, а не меньше как допризывником. Только такую мою важность поубавили.
Приехали из района ситуацию с ребёнком разъяснять. Со мной, значит: по-чему, мол, учицца не идет. Что тут разъяснять? Влюбленный с лебедями весь стёк. Вызвали нас с мамкой, но она-то на работе. Иду один. Грязную бязь в узелок завязал, несу.
Вид у меня, как у Платонова бодучего быка, а сердце колотится, как сбеси-лось. Понятно, перепужалось. Не каждый день в бой ходишь. В классе на столе расстилаю бязь – все «любуются». Глаза на лоб от непонятки.
– Что это? – спрашивает инспектор.
– Что это?– спрашивает инспекторша.
– Что это? – спрашиваю я, глядя на Эльдорадовну.
Сверху на эту высохшую грязь кладу тетрадный листок, чтобы много не раз-говаривать. Загодя приготовил. Сопел над ним дюже долго, но смог. На нём так красиво мною написано! Постарался, чтоб знали, какой я грамотей. А написал всего одно предложение, но со смыслом, мол, понапрасну со мной не старайтесь. «Кто сделает плохо моей мамке, триста тридцать раз об этом пожалеет».
Инспектор мужик был с понятием, видел я, как лицо его смену настроения произвело, стало такое мягкое и доброе. Смотрит он на меня улыбчиво, глаза так и подплясывают в радости, но ничего не говорит. Инспекторша молчала. Может, она не разглядела какой я умный, а может, как раз разглядела, и ей это моё умничанье не понравилось. Они же тоже разные бывают.
Уехала училка. Выгнали. Но наши подушки с собой прихватила. Не знала она про деревенскую планку, которую надо держать достойно, вот и сподличала. Четвёртый класс мы заканчивали со старой любовью – Матрёной Гавриловной, учительницей пенсионеркой. Как же я её любил!!! Как ягоду рвали. В сибирском приволье множество всякой ягоды растёт: малина, калина, смородина, клубника, земляника, костяника.
КАК ЯГОДУ РВАЛИ, КАК ГУСЯТ ПАСЛИ
Никто не выращивал лакомство на лето и запасы на зиму, они сами росли.
– Я вчерась разговаривала с нашим малинником, – сказала бабушка внучке с грустью и, подперев голову рукой, затихла.
– Он разговаривает? Ты видела его, когда во дворе на стуле гуляла? Ты там его слышала?
– Нет. Я видела его из окна. Он меня манил рясной малиной, видно, не знает, что я не могу больше ходить к нему.
– Малинник может понимать? – Головой сокрушённо покачала в разные стороны, глядя на него, мол, не приду, так он заплакал.
– Как?
– Горько, ягодками – посыпались, посыпались на землю, как слёзки.
– А если я сбегаю вместо тебя, он перестанет плакать? Радость встрепенулась в бабушкиной груди. Жалостливой растёт внученька, теперь научить её надо не бояться. До сей поры всё рядом была, за ворота шагу сама не ступит. Перестанет, только мамка заругает: «Куда девчонку послала? Она ещё мленькая, трусливая».
– Я же не такая же, я же большая.
– Тогда давай тайком сделаем. Я сяду у раскрытого окна, ты будешь соби-рать ягоду и меня видеть.
– Только покрой белый платок – он приметный.
– Доставай из скрыни два – тебе и мне. Давай-давай, ничего что новые. Мы с тобой тоже девки новые – бядовые. Зеркало ташшы, в теантер сбираимси, – последние слова специально сказала неправильно, чтобы смешнее было. В новом платке и с котелочком, подвязанным на шее, помаршировала наша Аичка к малиннику.
Бывало, как она позовёт: «Бабушка!», та ей отвечает:
«Аичка» – вот так получилась внучка Аичка из Алечки.
Бабушкин платок видит, свой на виду держит, ягодку не ест, собирает – то-ропится. Мухи зудят, комары пищат, птички чивкают – все пугают.
Из малинника выскочила, но тут же сделала тпру, как лошадку себя остано-вила. Не хотела, чтобы её видели бегущей, да ещё после того, как она спра-вилась со своей работой, нарвала ягоды. К дому зашагала победительницей. И тут вдруг так малины захотелось! «Сяду на лавочку и немножко поем.
Я же не ела», – подумала и села. Пальчиком поделила на части: бабушке c дедушкой, папе с мамой, Лячку и себе. Свою часть съела, и ещё хочется. Ля-чок сегодня в поле с родителями, там себе найдёт. Съела его долю. Папа с мамой сено убирают, там ягоды полно.
Осталась бабушкина и дедушкина. И вдруг сразу сытой стала и есть переста-ла. Что-то нехорошее на минутку шевельнулось внутри и сбежало.
Открывает дверь и кричит:
– Бабушка!
– Аичка!
– Я пришла! – и подаёт котелочек.
Рожица, измазанная малиновым соком, победно сияет.
А бабушка не видит этого, знай, нахваливает: – Ай да умница! Ай да добыт-чица. Не побоялась! И сколько нарвала!
Закружилась у Аички голова от похвал. В басне ворона сыр выронила, а в жизни Аичка выдала себя с головой:
– Бабушка, ягоды было много! Это я её съела.
Бабушка, как не слышит:
– Неси, внученька, мисочки, всем поровну делить будем. Опять это что-то шевельнулось в груди у Аички.
– Эта ягодка – папе. Он так устаёт, целый день с трактора не слезает, бедный. Эта ягодка – маме. Она на работу поехала с больной головушкой. Эта Лячку, он совсем мал. Эта нам с дедусей.
Я сидела у окна, помогала за себя и дедусю. Эта, самая большая, тебе. Ты у нас сегодня кормилица. А у «кормилицы» большие зелёные глаза становились всё больше и больше. Ужас раздвигал их на всё лицо и таращился в мисочки, в которых лежало по нескольку измятых несчастных ягодок. Даже не ягодок, а ягодного месива.
Лицо Аички сморщилось. Глаза плотно закрылись. И ужас пролился слезами. – Бабушка, миленькая, я плохая девочка. Я тебя обманула. Я съела и своё, и папино, и мамино, и Лячка. Я только твоё принесла.
Я... я...я, – захлёбывалась она, – я стану хорошей. Не говори только папе и маме, и братику.
– Им и моей ягоды хватит. Сегодня поделим мою, а в другой раз – твою.
– Я сбегаю ещё завтра. Я всю свою... – больше она не смогла сказать и слова. Уткнулась в бабушкин подол носом. Плач тряс её плечики, но родные руки волшебно погладили и прогнали плач прочь. Омытая слезами, Аичка успокоилась.
От плохого поступка её душенька в голоде была, шевелилась, сигналы пода-вала, а животик своим «хочу» заглушил их, и она не услышала. Можно сказать, что бабы Доды урок окончен. Но продолжение имеется. Они вошли в дом уставшие, грязные протянули доченьке с улыбкой гостинец от Лесовика – в широком листике малину.
А Лячок нарвал ей такой букет земляники и костяники, что двумя руками надо было держать. Свой первый поход по малину Аичка запомнила на всю жизнь. И каждый раз как вспоминает, так хочется стереть его, чтобы не было. Но стереть, к сожалению, ничего нельзя. Как гусят пасли.
В нашей деревне (и не в нашей тоже) вся живность детьми выращивается (и не живность тоже детьми). Большие братики и сестрёнки поднимают на ноги маленьких братиков и сестрёнок. Так говорят образно, так есть и не образно, в прямом смысле. Родителям некогда, надо быстро топать, чтобы было, что детишкам лопать. Девчонки всегда возятся с цыплятами и гусятами.
Мальчишки с крупным скотом: запрягают, поят (и поют тоже), кормят. К этому были приставлены и Лячок с Аичкой. Вам не надоело, что я их всё кликухами зову? Деревня же.
КАК ЯГОДУ РВАЛИ, КАК ГУСЯТ ПАСЛИ
В ней у каждого своё прозвище имеется: Пудя, Горелка, Гриб солёный, Цыган, Залётка, Чекуренчиха... Всех перечислять – бесполезное дело делать. Так оставим. Я бы эту главку назвала ещё «Жалостливые», или как в деревне говорят, «жалисливые». Без жалости в наших краях делать нечего.
В далёкие времена мода такая была – людей гонять с места на место. Кто выдержит, тот и стоящий. В Сибири всех жалели, тайком, правда, а то и сам пойдёшь по этапу, по сибирскому тракту.
«Хлеба дать, по секрету еды страждущим людям сунуть, завсегда момент сыщется», – так баба Дода учила.
Она себя своей жалостью обезножила. Ранней весной нечем было скот кормить. Колхозных овечек стали гнать через речку в поле. Всё какую-то тра-винку найдут, съедят.
А они c перепугу котиться начали. У них мода такая, котиться по весне, ягняток приносить, а тут шуга прёт, какое котиться! Природе же не прикажешь! Кто жалостливый, не выдержит на такое смотреть: тёпленькие, скользконькие, глазки ещё не успели продрать, а на них вода ледяная…
Баба Дода кинулась за ними. Схватит ягнёночка и на берег, людям отдаёт. Всех спасла, даже не заболел ни один, сама же ревматизм схлопотала. Её спасение, что рядом с ней выросла жалисливая девочка Аичка.
На солнышко выведет погреться, а если уснёт, от гнуса марлечку на лицо набросит, одеяльцем ноги прикроет, чтобы согрелись.
«Квёлая она у меня», – говорила, жалея бабушку. На её руках была не только бабушка, но и гусята. Пушком чуть обросли, и земля травкой чуть покрылась, вынесла она их на горочку в конце улицы и сидит, любуется. Гуси-родители тут обгогатывают друг друга и деток своих. Всем хорошо! И вот вам нежданчик-дождь как польет! Цыплята бы под курицу лезли, а эти гоноровые, клювы пооткрывали, головёнки к небу задрали, будто напиться не могут. Уже ножата подламываются, уже обмякли и обмокли. Гром усиливает этот ужас: громых, громых! Разгромыхался…
Аичка стала над гусятами на четвереньки, закрыла их своим тельцем, пытается в мокрый подол платьица собрать. А гусакдурак, подлец щипучий, ре-шил, что каюк настал его деткам. Как заорал, крылья расставил, взлетел Айке на спину – и ну крыльями бить и клювом щипать. Спасение, что повёрнутый от её головы был. На попе платьице, трусики, редко попадал за тельце ущип-нуть. Самое непонятное в том, что Айка не кричала!
– Ксюш, глядика чавой-то там гусак буянить? – спрашивает бабушка-соседка дочку. Сама она с утра до вечера в окне «прописатая».
– Ой, чии ж это гуси? Ён же какого-то дитёнка щиплет.
– Девчонка, платьице на ней.
– Никак Айка Нюрина. Чего она не бегить, не кричить, стоить перекинутым мостом, как вкопатая? Метнулась Ксюшка под дождь на улицу. Давай отгонять. А гусак разъярился, чистый аспид, на неё стал кидаться. Забоялся только палки.
– Чего ты тут, коленками к земле прилепленная, делаешь?
– Вот, – отвечает синими губёшками Аичка и показывает слипшихся, с си-нюшной кожицей своих подопечных.
– Чего ж ты не бёгла, када гусак подлетать стал?
– Чижолый он, за зиму отожрался пшеницы.
– Гусыни худнут на яйцах, а эти бездельники объедаются. – Зато, какие потом защитники!
– То-то он тебя отзащищал. У тибе и петух, как собака, тоже защитник. Не зря соседка петуха с гусаком связала. Он шибко буйный был. Мимо их ограды дети пробегали, как от двора со злой собакой. Как-то раз был шибко пчёлами покусатый. К им перелетел, они ему там показали свою оборону – весь гребень в жалах был. Лежал наш Петя, хвост откинув.
Вытаскала Аичка жала по одному, холодной тряпкой жар с него сняла, выздоровел. А он первого, кого погнал – это Аичку. Она заскочила на ворота и смеётся. Влюбчивая в каждую букашку и жалисливая. Как уроки жизни брали.
ЗИМНИМ ТИХИМ ВЕЧЕРОМ
Зимний, тихий вечер. Горит керосиновая лампа (электрическая редко загоралась, всё поломки на линии). На краешке большого стола лежат нитки, ножницы, каталка, короче, всё нужное для матери и дочери.
– Ты, дочечка, приглядайся, как надо чё делать. Тебе какой годок пошёл? – задаёт мама вопрос на засыпку.
– Десятый.
– Большая уже! Вот я ниточки одинаковой длины нарежу, а ты их складывай вот так жгутиком и скручуй. Толще будя – значит, на дольше хватить гореть. Ты када совсем вырастешь большой, вот так учись прилепляться к суженому, как эти суровые ниточки одна к одной. Крепше жить.
– Как ты жила с папой?
– Да милая. Папа и сейчас нам с тобой помогает. Он не может с нами жить, на работу далёко ездить.
– Поэтому он живёт там с тётей Шурой?
– Да, родная.
В этот вечер они не вязали, как обычно, а катали свечки. Скоро Пасха. Да без свечки в доме и в будний день неуютно.
Наделав жгутиков, они начнут топить воск. Мать расскажет о труженицах-пчёлках, их пользительном труде:
– Ты у меня тоже труженица. А када вырастешь, гляди, для кого трудисся. Поняла?
– А ты для кого трудишься?
– Для тебя и для бабушки.
– А я думала, что ты ходишь на работу, чтобы хлебушек зарабатывать.
– Да, милая. А хлебушек для кого?
– Для нас.
– То-то же. Без вас я лежала бы на печке и в потолок плевала.
– А свечки тоже для нас с бабушкой?
– И свечки для вас. Вот сейчас накатаем поболе, я зажгу одну и буду Богу молиться за тебя и за бабушку.
– За бабулю понятно, она шибко больная. А за меня чего? Непослушная?
– За тебя буду спасибо говорить. Я без тебя счас одна бы печалилась, а ты, как звоночек, рядом. Просить буду, чтобы ты выросла умненькой.
– А мне за кого молиться? – Послушай подсказку у себя внутри. Задумалась Алька, понять хотела, как это «послушай у себя внутри», там кто-то разговаривает что ли?
Помолчала минут пять и решила:
– Я тоже буду за бабушку.
– Умница.
– И за тебя.
– О чём за меня?
– Чтобы ты так не уставала и не плакала.
– Спасибо, доченька. Хорошо. А за себя?
– Я не знаю чего у него попросить себе?
– Попроси, чтобы он, как свечечкой, дорогу тебе до школы освещал. Тайга, лес, кустики, а ты бежишь и не боишься.
– Мама, давай, скорее сделаем и помолимся!
– Давай. Это будет нашей тайной. Только ты никому не рассказуй, а то не сбудется. Ты ж у меня понятливая. Так из вечера в вечер мать находила общее дело с дочерью и, как могла, направляла её в жизнь, и, как могла, вела её к Богу.
– Ты помнишь, когда я ездила в город? Когда меня положили спать в отдельной комнате, в неё уже полумрак заселился. От моей же кровати держался подале. Ночничок, видимо, приказал: «Стоять! Не приближаться»!
Полумрак, конечно, не мрак, он миролюбивый, поэтому отошёл и не застил. Я лежала, на него глядела, и силов не было, так хотела домой.
Вспоминалось, как бабушка говорила:
– Чавой-то мяне сёдни тоска гложить?
– Что она гложет? Кости что ли? – спрашивала я.
– Тоска – не собака.
– А кто?
– Ой, милая, лучше тебе не знать. Вот теперь, думаю, наверное, и ко мне она пришла, чтобы я её узнала. Познакомиться хочет. Знает, что я не дома. Лежу, лампочкой теперь уже мрак гоняю. Скажи, тоска – это когда с тобой кого-то родного нет? Да?
– Да, родненькая, кого-то нет.
– Растеряешься один и не можешь привыкнуть. Я там одно стихотворение читала про женщину. Она тоже сильно тосковала, потом у Бога стала просить всякую всячину: обезьяну, чтобы веселила; змею, чтобы приласкала; льва, чтобы охранял. Представляешь? Поиграет с ними, поиграет и всех прогонит. Сидит опять плачет. Так ей Боженька дядю послал, чтобы тот тоску выгнал. Я тоже стала с Боженькой разговаривать. Но просить всю эту всячину не стала. А зачем? Теперь же нас с Боженькой двое. И он сказал, что я хорошая девочка. Я ему улыбнулась. Тоска спряталась. Пришёл сон. Мы за это помолимся?
– За это помолимся обязательно.
КАК ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ
Звёздная болезнь бывает у актёров, их детей и у других видных и не совсем видных деятелей. Звёздные дети звездятся родительскими звёздами, а у Аички всё было по-другому. Она не пользовалась бабушкиным авторитетом, свой зарабатывала рядом с ней, во всём помогала.
Где бы она ни была, её всегда привечали:
– Ой, кто это к нам пришёл?
– Аичка.
– Я тебе и бабушке гостинец приготовила. Эту головку сахара тебе, а эту ба-бушке отнесёшь. Или. Стайка детей идёт в школу через деревню, лежащую на их пути.
– Вы из какой деревни, ребятки? – спрашивают.
– Из Кизыкчуля.
– Случаем среди вас нет внучки бабушки Аверихи?
– Есть.
– Ты моя помощница, – говорит женщина и искренне любуется засмущав-шейся девочкой.
– Выросла, не узнать. Какой год миновал?
– Десятый.
– А моему Коленьке уже два годика. Ты помнишь, какой он смешной родился? Или...
– Алло, школа? Передайте Аичке из пятого класса, что я сегодня в её деревню еду. Могу свозить домой. Пусть прибёгнет после школы.
Или...
– Аичка, сбегай к моей ребятне, я их одних кинула. Будут искать, куда мамка делась.
Или...
– Аичка, помоги мне хоть руки-ноги обмыть, прям с огорода.
Аичка очень гордилась своей бабушкой повитухой и старалась ей соответст-вовать – участвовать в добрых делах.
– Глянь, унученька, хто там подкатил к воротам?– просит бабушка.
– Не узнаю, но вижу, что родить приехали, – отвечает спокойно и привычно. – Ставь, детка, водичку греться.
К работе приступали обе. Бабушка закрывалась в горнице с роженицей и её криками, сделав перед этим распоряжение:
– Вода закипит – скажешь. Свёклу не забудь.
– А где взять холщёвинку для квачика?
– В сундуке, и не забудь утюгом прокалить. Свёклу три на меленькой тёрочке, чтоб сок потёк. Ромашку надо заварить. Сок – для дитя, ромашку – для матери, чтоб чистой стала. И баня для неё, чтобы распарить в тепле и всё поправить.
Говорила с объяснениями, что поймёт внучка сейчас, а что позже поймёт, да-ром слова не упадут и не пропадут.
Многое делала Аичка, не понимая для чего это надо, но бабушка сказала – значит, надо. Общим был их труд, общей была награда – первый крик ребён-ка.
Один случай покрыл их головы никогда не проходящей славой. У бабушки ослабли руки, и она больше никого не принимала. Рожениц стали возить в район.
Лето. Всё взрослое население деревни в поле. А тут нате вам, подъехали.
– Бабушка, не довезу, – взмолился Пётр, – пока с работы прибёг, Клавдея рожать начала.
– Милый, что же я с ней делать буду? Руки-то не грабают.
– Ничего не делай, только доглядай, чтоб не померла.
– Это твоё «ничего не делай» двух жизней может стоить. Господи, какие же они дурные, эти молодые папаши!
– Христом-Богом прошу, – кидается в ноги, чтоб не отказала, а в глазах боль от страха за жену.
– Отчепись ты от неё, а ты перестань глотку попусту драть, иди в горницу, там орать будешь, когда команду дам. Задал ты нам задачку известную с не-известным. Иди, Пятро, баню растопляй, вода в котле есть – грей.
Достала чистый бумазейковый халат, одевает, а на лице дума гнездится.
Потом повернулась к Аичке и серьёзно сказала:
– Ну, внучечка, экзамент у нас с тобой сёдни такой, что не сдать нельзя. Переодень и ты платьице.
– Мне что-то другое надо делать, не так, как всегда?
– Ты видела, как коровка Вишенка телёночка отелила? Счас увидишь, как ребятёночек родится. Помогать будешь. Главное – не пужайся. Моя голова, а твои добрые рученьки счас нужны. Не боись её криков. Они кричат, как конец их объявился, а через пару минут радоваются. Ты только сполняй, что скажу, и крови не боись. Это хорошая кровь, очистительная.
– А вдруг не сполню, как надо? – сомнительно, но без испуга спросила Аичка.
– Сполнишь. Ты у меня ученица что надо, куда с добром! После таких слов помощнице хотелось исполнять самую трудную работу.
– Подходи, гляди. Уже головка близко. Помогти немного надо. Не страшно? – Страшно.
– Не боись. Сёдни сам Господь на тебя глядить. Ну, Клавдеюшка, передохни чуток. Знаю, милая, знаю, как это больно. Счас потуги пойдуть часто. Ты уже готовая. Действительно, не довезть. Я подмогну.
Левой рукой бабушка взяла правую за запястье и Аичке поясняет:
– Рукой своей головочку обвяду – и начнём.
Ну, пошли, пошли – тужься, – командно и грозно закричала на Клавдею. – Головка уже на выходе. Тужься, а то удушишь. И роженица, услышав страш-ные слова, принялась молча стараться с дико выпученными глазами. Смотреть страшно!
– Она счас закричит шибко, ты не слухай, тягни мою руку, придай силы. Бярись двумя рученьками. Так мои родимые, так. Ай, да девки у меня! Ай, да умницы! Ишшо, ишшо… Спасибо, Господи! Спасибо, Милостливый! Счас обиходить надо, от мамки отделить, так... Пупочек мы с тобой потом закопа-ем, чтобы родины не забыл. Подымай его, унученька, покажи Клавдее свистульку меж ножек, пусть сыну порадуется. А ты чегой-то пикнул и мол-чишь, а ну – кричи!
И ребёнок, будто понял приказ, закричал вначале пронзительно, потом его «уа» стало, как мяуканье, нежным и ласковым.
– Ты пялёночки привязла?
– Не знаю. Петя собирал.
– Насбирал твой Петя со страху полные штаны. Уже дитёнок кричит, а он, видать, у бани под полок забился.
– Бабонька, я за дверью. Скажи: кто у меня?
– Кого хошь?
– Кого дашь.
– Молодец, знаешь, что мине подругому нельзя отвечать. Дам тебе сына.
За дверью раздалось: «Ё-моё», и всё стихло.
– Домой побёг, старенького дедуню порадовать, – догадалась Клавдия.
– Вот и ишшо одного Божьего дитёночка мы с тобой родили, моя внученька, – сказала бабушка ласково и поцеловала свою помощницу в макушку.
– Квачик делать? – спросила довольная собой Аичка.
– Сделай, милая, пусть пососёт свеколку, она ему кишечки очистить. Тогда его мамке под сисю подкладём.
Вырастали бабы-Додины внучата, которые рождались в её доме. Разъезжались. Развозили по белому свету славу о ней. Родная внученька рядом жила и опыта набиралась. Теперь нетрудно угадать, кем она стала? Верно. В районном роддоме врачом работает.
Галина Сафонова
Из книги "Мы не зря здесь жили"
Мы не зря здесь жили
Галина Сафонова
Россия, мамка-кормилица,
Магический круг вокруг очерчу -
Передышку дам твому вымени
От объевшихся сволочуг.
МАМКА-КОРМИЛИЦА
За круглым телевизионным столом сидит такой себе многоликий интернационализм и пытается постичь идею русского патриотизма. «Спросите крестьянку Маню,- предлагает умственная наша Антонина.- Только говорите с ней подоходчивее, не потому что она дура, а потому что через кружевное плетение ваших словес понять, о чём идёт речь, невозможно».
- В позапрошлое лето была я у брата,- расскажет она вам,- ездила на Украину. Садочки, цветочки, вишенки– красота! Но земля не наша. Наша чёрная, как воронье крыло, жирная, как сало. Плуг нарезает пласты, бороны – следом. Идёшь, и ноги тонут. У них же или песчаная рассыпуха, или пластилиновая глина. Климат хорош, выручает. Наш же нас не балует. Туда, сюда мотнулся, и уже белые мухи полетели. После поездки я со своей земелькой разговаривать стала: грядки кладу – приговариваю, сею – уговариваю, урожай снимаю – благодарю, к зиме готовлю – провожаю: «До весны, кормилица».
- Маня родину землёй чует, а я тайгой,- добавляет Мотя.- Войду в неё зимой – царство белое и тишина, а весной – жизнь кричит в каждом кустике, летом все важные: и звери, и птицы, и деревья; осенью – сборы шумные в тихой красоте.
- А я маминой песней лечу домой,- говорит наша учительница.
- Грех с вами, бабы, не умеете вы родину чувствовать,- вмешивается мужик.- Я другого не понимаю, только, как работать при едрёной погоде. Отправь меня в Африку, всё, каюк мне. Дома-то приду с морозца, напарюсь в баньке, опрокину стопарик с устатку – вот это моё. Наши мужики счас по миру шатаются, заработки добывают, так говорят, что выпивки полно, но вода водой, не вкусная. Думается мне, что это потому, что несвойская и воздух чужой, да и мысли по дому ослабляют тело. Семён был на побывке, так восторгу не оберешься! «От свойского борща, - говорил,- язык повело радостью».
- Привет вам, сыновья и дочери, сидящие в интернациональном застолье! Вы поняли, что у нас у каждого свои горшки. Если мы их сволочём в кучу, то они побьются без пользы. Никому никакой выгоды, одни битые черепки. Давайте каждый беречь свои горшки, будем сытые, довольные собой и соседом, не заходя на личную территорию. Тогда можно и идеи русского патриотизма постигать. Сговорились? Вот и ладушки. Теперь же быстренько, интернациональные мои, бегом каждый в свой патриотизм, стол «ослобоняем».
Я сама сяду за него: потоскую о своей сторонке, подумаю о духовном возрождении моего народа, униженного до беспамятства, припомню былую славу мужика-пахаря, прикоснусь к душе сострадательного русского человека.
Из конверта умственной моей сестры Антонины газетной вырезкой выпала слёзная радость для меня: «В начале 2008 года будет выставлено на торги Кизыкчульское месторождение с запасом угля в 95 миллионов тонн. Планируется... В проект включено строительство железной дороги».
Уморили сибирскую деревню вместе с этим месторождением. Чем дальше в годы, тем плотнее и гуще тайга, которая когда-то отступила перед сильными людьми, а теперь торопится, укрывает обезлюженный кусок земли своей непролазностью. Жалко погубленный труд (синие жилы рук), который вложили в своё время труженики, чтобы тайга поддалась. Памятником им стоит заброшенное кладбище.
Тянется обоз подвод, везут короба с углем через мою деревню – это из прошлого.
Тянутся составы, везут на товарных платформах уголь – это из будущего.
Перестук колёс и перекличка поездов благостно отзовутся в печальной обители наших родных:
«Вы не зря здесь жили.
Вы здесь жили, не зря.
Здесь не зря жили Вы»
Коротка жизнь сибирской весны и лета. Природа торопится зацвести, отцвести, созреть, затем уступить место тихой осени и колючей зиме.
За березовым пригорком просыпается деревня. Кричат до хрипа петухи, будто соревнуются друг с другом. Роща скрывает от меня деревню. Я сижу на полусгнившем бревне у неезженой дороги. Закрываю глаза. Подставляю лицо первым лучам солнца. Продолжаю вслушиваться. Шорохи, скрипы, мычанье и постепенное, тихое нарастание людских голосов. Проснулись. Хлопотное утро разминает натруженные руки, немного отдохнувшие за ночь. Вот и дымком потянуло! Cкоро все затихнет, как будто снова все уснут. Скрип колёс, гул машин и тракторов удаляется, увозя людей на работу, утишая их голоса.
Следом просыпается босоногое детство! Заполняет деревню своей возней, смехом, перекриками. Их день пройдет под надзором бдительной старости. Но дети будут думать, что это старость оставлена на их догляд и во многом будут правы. Забота - это главное, о чем они не смеют забывать. Будут игры, забавы, но с трудом вперемешку. Вечером, когда взрослые вернутся, кто-то захлебываясь будет рассказывать, сколько прополото грядок, собрано ягод, окучено картошки ... А кто-то будет сопеть виновато, стоя с опущенной головой и глазами долу. На следующий день, будьте уверены, он переделает в два раза больше! Дети в рабочем ритме не за награду. В труде добывается доброе имя!
Спускаюсь с пригорка заросшей дорогой. Белоствольные березы стоят, как на параде, то ли к чему-то прислушиваясь, то ли кого-то молчаливо обвиняя. А перепуганные осинки дрожат листочками - о чем-то торопятся рассказать. Горька осиновая кора. Горек осиновый кол. Кто-то вбил его в мою деревню. Ошалелая тишина накинулась на меня со всех сторон, сдавила - не вздохнуть. Пискляво лезет, зудит в ушах – обрадовалась - ей ведь тоже тягостно жить, никогда и ни для кого не пробуждаясь. Иду знакомой улицей. Трава спутывает ноги, цепляется своей нетронутой густотой. То ли не отпускает, то ли не впускает... По сторонам стоят дома - покойники, глядя пустыми глазницами окон. Ни радости, ни укора, только могильный холод кругом в это жаркое лето. Нахожу место дома своего, опускаюсь в траву...
Солнечный берег Средиземного моря безучастен к одиноко сидящей на песке женщине, застывшей в неподвижной позе. Только зелень печальных глаз омывают то ли брызги, то ли слезы. Виноваты же во всем перелетные птицы, покидающие жаркую страну, улетающие к своим гнездам в холодном сибирском краю. Отдохнув, они стайкой взмыли в небо и стройным рядком скрылись в голубизне неба и моря.
Случалось ли тебе в воспоминаниях возвращаться в дом своего детства? Для меня это единственное место, где я ощущаю себя счастливой. Его уже давно нет, но я постоянно туда " прихожу".
На углу улицы ломают дом, вросший окнами в землю. Дружно снесли крышу, разрушили стены, и машины в одночасье увезли дом на свалку. Не понятно, почему осталась стоять полуразрушенная печка, ощерившаяся побитыми кирпичами. Прохожим неудобства: пыль, грязь, щепки, а вынужденный обход удлиняет путь. И люди сторонятся этого места, а напрасно. Из дома вылетели смех и радость. Примите их, они будут добрыми спутниками. А вот на печи сидит горе - злосчастье. Оно не радость и летать не умеет. От света и чистого воздуха медленно угасает, радуясь концу своих мучений. Помогите ему, развейте его прах. Вырастет новое здание для новой жизни, и пусть не вползет в него горе-злосчастье.
В моем альбоме, на первой странице, пожелтевшее от времени фото дома моего.
-Это тебе на память,- сказал сконфуженно мой одноклассник и протянул конверт.
- Спасибо,- ответила я, смущаясь.
Как он его сфотографировал? Где взял фотоаппарат? Как добрался до моей деревни? Это пятьдесят километров ходу, и именно "ходу", так как не было трасс и автобусов. В век информации все это может казаться смешным, а для людей из двадцатого века так не казалось.
Открываю альбом, гляжу на дом и вижу в распахнутом окне бабушку, а во дворе - суетящуюся маму. Откуда-то доносится скрип снега под ногами. Ядреный воздух холодит ноздри. Дотрагиваюсь до щеколды и вхожу. Любовь моих родных всегда бежала мне навстречу. Стою посреди двора, радостно все разглядываю и детской восторженной припрыжкой бегу в дом. Через открытую дверь первым кинулся ко мне с объятьями запах дома моего. И я плачу ему тем же - бережно храню в памяти через всю жизнь. В доме щемящее одиночество сжимает грудь. Глаза останавливаются на стене с портретом.
На школьные деньги, которые давала мама из 25 рублей алиментов, я пыталась купить что-нибудь нешкольное. Тетради можно покупать реже, если писать по мельче и поплотнее. Чернил хватит на дольше, если неважное писать карандашом. А кандаш можно сэкономить, если неважное вообще не писать. Не вспомнилось бы это через столько лет, если бы не портрет. Улыбающиеся мать и дочь озорно смотрят перед собой. Ничего, что глянец потускнел и бумага пожелтела. «На наш век хватит», - говорила мама. И хватало. Ездил по району фотограф с треножником и соблазнял всех увековечиться. Портреты, расставленные около него, нагло красовались новизной. И на них парами мужья да с женами. Одиночные редко заказывали, это и понятно. Одному фотографироваться - выгоды нет, когда за двоих та же цена. Я тогда подумала: "Они-то парами, а мама моя одна. Сэкономлю - ка я денег и закажу портрет: она и я. Чем не пара?» Эта идея не давала мне покоя. Съездила домой, подобрала фотографии - свою и мамину. Заказала. Экономлю деньги и жду. Портрет стоил 10 рублей, сразу десятку отдать не могу. Халва и конфеты-подушечки в какао пусть сладят рты другим, а я потерплю. Чтобы и без хлебушка не остаться, бежала в пекарню к дяде Косте - дальнему родственнику. Он давал мне хрустящие хлебные наросты с буханок.
- Сколько ни звал - не шла, а сейчас что? У мамки все хорошо?
- Нормально. Просто я люблю наросты, но раньше было далеко, а сейчас уроки делаю с Тамарой.- Вру быстренько, не моргнув и не покраснев…
Месяца через два портрет был готов и деньги собраны. Победа! Положив портрет между двух фанерок, обернула шалью (боялась, чтобы не замёрз), обвязала верёвочками и аккуратно запихала в сумку. Сумку не за плечи повесила, а перед собой несла для уверенности. Как я бежала домой! Пятьдесят километров вроде бы не лежали передо мной, а бежали мне навстречу, сокращая путь под ногами. Мама уже ждала. Когда я приходила по субботам домой, она торопилась управиться с хозяйством заранее.
- Тороплюсь, доченька же придёт, нечего её ещё и с хозяйством колготить, пусть отдыхает, - с гордостью в голосе говорила она.
Это и понятно - никто из деревни не учился. Никто и не мог - деньги были только у нас. У них отцы, но без денег, а я без отца, но с алиментами.
Обнимаемся, целуемся. Ужин. Вопросы - ответы. И наступает минута открытия портрета, а это не хухры-мухры, приравнивается к открытию исторического памятника. Ставлю на стол и смотрю на маму... Шок!
- Сколько это стоить? - грозно интересуется она.
Я понимаю, что за деньги будет выволочка, вру:
- Пять рублей. Всего. Только. Мало.
- Ты это от еды оторвала?
- Понемножку. Просто полгода собирала, - выкручиваюсь и вру дальше, где уменьшая, где увеличивая.
- Больше дури такой не выставляй. Рубль за поварёшку цыганке отдала - это ещё куда ни шло, но пять рублей! - говорит и на портрет не смотрит.
Я встаю и молча иду спать. Замолчать для меня, значит спрятаться, уйти от обид и необходимости защищаться, залезть под свой колпак. Думаю, что это от безотцовщины. Слышу, как мама открыла сундук и закрыла, значит, портрет спрятала. Если б её спросили:
- Зачем спрятала?
Она бы ответила:
- Это вещь, её хранить надо и перед людями нече шибко важничать. У их-то детей нет денег, чтобы сделать такой.
Утром солнечный зайчик от болтающейся створки потоптался туда-сюда по лицу и разбудил. У стола сидела мамина подруга - соседка, и мама ей тихо доверительно рассказывала:
- Ты представляешь, Енюшка, такие деньги уплатить?! - и вынимает портрет.
- Ой, Нюрушка, какие же вы красивые!!! Как же тебе повезло с дочкой, она завсегда о тебе заботится.
- Это, конечно, я понимаю, но как подумаю: "Пять рублей", - это ж такие деньги!
- Какие такие пять? Эти портреты десять стоят, - проинформировала тётя Еня по доброте душевной.
Моя голова влезла поглубже в подушки.
- Обманула! - ахнула мама.
На что услышала достойный отпор:
- Ты, видать, насела на девку, и она сбрехала, чтоб тебя не расстраивать. Ты же как вчеписся: и долдонишь, и долдонишь. Повезло тебе, повезло.
Она еще повторила "повезло" и пошла домой. Массивная наша дверь закрылась бесшумно. Мама посмотрела в мою сторону, убедилась, что я "сплю" и стала рассматривать портрет, бережно прикасаясь и нежно гладя натруженными пальцами моё лицо. На её же лицо ложилось умиротворение. Независимый критик Енюшка, спасибо тебе за спасение! Вдруг дверь отворилась с необычайной легкостью.
- Нюрушка, Енька говорила, про портрет. Покаж.
Всё, надо вставать. Начинается торжественное открытие исторического портрета.
На углу улицы ломают дом. Разломали давно и мой. Подворье заросло травой, словно, и не было. В соседней деревне живет тот, кто подарил мне незабываемую радость в конверте. Через мой щедрый край и чуткого мальчика прошли времена великих созиданий. Сидит он на завалинке дома, вросшего окнами в землю, закинул ногу на ногу, а из дырки валенка торчит клок соломы, "предназначенный снег не впущать».
Галина Сафонова